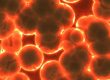Введение
Сердечная недостаточность (СН) — клинический синдром, обусловленный потерей компенсаторной насосной функции сердца вследствие его функциональных и/или структурных изменений, с типичными симптомами, включающими одышку, отеки, недомогание и снижение работоспособности [1]. СН может протекать с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) или сниженной фракцией выброса (СНнФВ), причем на долю первой приходится значительная часть клинических случаев [2, 3]. Существует ряд причин и факторов риска развития СН, включая ишемическую болезнь сердца (ИБС), артериальную гипертензию (АГ), сахарный диабет (СД), инфаркт миокарда (ИМ), фибрилляцию предсердий (ФП) и др. Наиболее часто причиной СН является ИБС или кардиомиопатия. Для диагностики заболевания применяют различные методы визуализации (эхокардиография, рентгенография, магнитно-резонансная томография, вентрикулография и радионуклидные методы, включая сцинтиграфию и позитронно-эмиссионную томографию), которые могут быть дополнены исследованием натрийуретических пептидов BNP и NT-proBNP [4]. Несмотря на то, что определение концентрации BNP/NT-proBNP в плазме для диагностики и прогнозирования риска повторной сердечной декомпенсации и смерти позволило значительно улучшить ведение и лечение СН, ряд факторов, таких как возраст, функция почек, ожирение и ФП, ограничивают точность этих показателей в качестве диагностических и прогностических тестов [5–7]. Кроме того, диагностика компенсированной СНсФВ может быть особенно сложной, поскольку ни визуализация сердца, ни физикальное обследование не чувствительны в этой ситуации, а уровень NT-proBNP обычно в два раза меньше, чем при СНнФВ, что заметно снижает диагностическую ценность этого маркера [8]. Именно поэтому существует острая необходимость в разработке дополнительных биомаркеров СН с целью дальнейшего повышения точности ее диагностики и контроля течения заболевания.
Концентрации микроРНК (миРНК), циркулирующих в крови, изменяются в ответ на целый ряд острых и хронических заболеваний, а стабильность образцов в процессе хранения делает их вероятными кандидатами на роль биомаркеров СН [9, 10]. Несмотря на то, что фенотипы СНнФВ и СНсФВ схожи, различия в клинических характеристиках и ответе на медикаментозную терапию подтверждают необходимость анализа уровней циркулирующих миРНК в крови в качестве дополнительного источника информации для лучшего понимания существующих особенностей фенотипов СН с точки зрения характеристик ткани миокарда [11]. В настоящем обзоре обобщены результаты исследований, посвященных оценке эффективности использования миРНК в качестве биомаркеров для диагностики СН, прогнозирования ее течения и дифференциации ее фенотипов. Кроме того, представлены данные о возможной связи миРНК с ремоделированием миокарда.
Содержание статьи
Соответствие миРНК ключевым требованиям к новым биомаркерам
МиРНК представляют собой некодирующие одноцепочечные молекулы РНК эндогенного происхождения, состоящие из 20–25 нуклеотидов. Основная функция миРНК — регуляция экспрессии генов путем связывания с целевой комплиментарной последовательностью матричной РНК (мРНК).
МиРНК находятся во внутриклеточном и внеклеточном пространстве. Внутриклеточные миРНК участвуют в экспрессии генов и способствуют функционированию клеток, влияя на клеточный цикл, клеточный метаболизм и сигнальные процессы внутри клеток. Внеклеточные миРНК присутствуют в кровотоке и большинстве жидкостей организма. Во внеклеточном пространстве миРНК хранятся в различных носителях, например в экзосомах, микрочастицах, липопротеинах, липидных везикулах и т. д. [12]. МиРНК попадают в циркулирующую кровь активно, при обеспечении межклеточной коммуникации между тканями, или пассивно, в результате некроза клеток, вызванного, например, ишемией. Таким образом, их содержание в крови отражает состояние организма, повреждение тканей или изменения во внутренней среде, вызванные болезнью. Эти свойства позволяют изучать миРНК в качестве перспективных биомаркеров ряда заболеваний, в том числе СН [13].
Поскольку спектр потенциальных биомаркеров широк, существует несколько основных критериев, которым должен соответствовать новый биомаркер [13]:
высокая чувствительность и специфичность для заболевания;
возможность определения биомаркера неинвазивными методами;
способность выявлять заболевание на ранних стадиях;
чувствительность к изменениям в ходе болезни;
длительный период полураспада в образце;
возможность точного и надежного определения биомаркера;
ценовая доступность;
понятность в использовании и интерпретации для врача и пациента.
МиРНК отвечают многим из этих критериев и, как ожидается, окажутся полезными в качестве диагностических и прогностических средств. Они характеризуются высокой стабильностью и точностью обнаружения с высокой чувствительностью и специфичностью благодаря последовательно-специфической амплификации. В большинстве исследований миРНК обнаруживаются в плазме крови, что гарантирует менее инвазивный тест, т. е. для диагностики достаточно только забора крови [14]. Как уже упоминалось выше, часть внеклеточных миРНК после синтеза упаковывается в различные носители и в таком виде попадают в кровь. Упаковка в носитель обеспечивает высокую стабильность миРНК даже при длительном хранении образца, защиту от активности рибонуклеазы, вызывающей деградацию миРНК, устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, которыми могут быть высокая температура, многократное замораживание и оттаивание, экстремальный pH. Экзогенные свободные миРНК не имеют такой защиты и легко деградируют в кровотоке.
Возможность использования биомаркеров при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ), в том числе и СН, была обнаружена несколько лет назад, и их клиническое применение стало предметом многочисленных исследований. Диагностическая сила миРНК превосходит или сопоставима с уже используемыми биомаркерами. Применение миРНК в сочетании с другими биомаркерами при ССЗ, включая СН, позволит повысить точность диагностики. В то же время миРНК могут быть полезны для прогнозирования будущих сердечно-сосудистых событий. Кроме того, в настоящее время изучается возможность использования миРНК в качестве терапевтических агентов при различных заболеваниях, в том числе сердечно-сосудистых [15].
Потенциал миРНК в качестве новых биомаркеров СН
В работе L. Wong et al. [16], обобщающей результаты 21 когортного исследования, которые были посвящены изучению миРНК (miR) при СН, из 71 миРНК были выделены те, экспрессия которых изменялась как минимум в двух независимых исследованиях: miR-1, miR-21, miR-30a, miR-92a, miR-126, miR-150, miR-195, miR-210, miR-342-3p, miR-423-5p, miR-499-5p и miR-622. Оценка дисрегуляции этих миРНК в контексте СН, по мнению авторов, может помочь выявить ключевые механизмы патогенеза СН [16]. Более того, некоторые из этих отобранных миРНК, по-видимому, регулируют важные гены, участвующие в ремоделировании сердца. Например, miR-1 и miR-30a нацелены на гены, играющие роль в апоптозе и гипертрофии сердца [17–20], miR-92a, miR-195 и miR-499-5p — на гены, участвующие в сигнализации апоптоза [21–23], а miR-21 — на молекулы в сигнальных путях, контролирующих апоптоз, гипертрофию и фиброз сердца [18, 24, 25].
Некоторые из перечисленных и другие миРНК были упомянуты в связи с СН и в последующих исследованиях. Например, аналогичный результат был получен для содержания в плазме таких миРНК, как miR-18b, miR-1254, miR-129-5p, miR-622, miR-675 и miR-423-5p, miR-22, miR-92b, miR-320a [26, 27]. Наиболее сильная корреляция с СН была обнаружена для miR-423-5p [26, 27], однако O. Tutarel et al. [28] не подтвердили эту корреляцию у лиц с правосторонней СН. Циркулирующая miR-150-5p также была идентифицирована как биомаркер прогрессирующей СН [29].
Оценивали эффективность панели миРНК для выявления СН и ее фенотипов. Сравнивали три варианта: использование NT-proBNP, использование панели из 8 миРНК и их сочетание. Применение комбинации NT-proBNP с панелью из 8 миРНК оказалось наиболее эффективным, позволив улучшить специфичность и точность диагностики [30].
Как и при других заболеваниях, миРНК могут иметь большой потенциал в прогнозировании СН. Исследования показали сильные прогностические свойства miR-21 и miR-132, содержание которых, как оказалось, помогает предсказывать сердечно-сосудистую смертность и риск повторной госпитализации пациентов [31, 32]. Вышеупомянутая miR-423-5p была идентифицирована как прогностический маркер, поскольку ее уровень коррелировал с повторной госпитализацией и более высокой смертностью, а в долгосрочной перспективе — с неблагоприятными исходами у пациентов с СН [33]. В проспективном когортном исследовании пациентов с хронической СН неоднократно проводили исследование содержания miR-22-3p, что позволило обнаружить корреляцию между уровнем этой миРНК и неблагоприятными исходами, включая госпитализацию, смертность от ССЗ, трансплантацию сердца или имплантацию вспомогательных устройств левого желудочка. На основании этого исследования было предложено считать miR-22-3p важным предиктором прогноза у людей с хронической СН [34].
Другим важным маркером, предсказывающим сердечно-сосудистую смертность, оказалась miR-182, и, что интересно, ее прогностическая сила была выше, чем у С-реактивного белка и NT-proBNP [35].
Помимо всего прочего, миРНК могут найти свое применение у пациентов с терминальной стадией СН, перенесших трансплантацию сердца, и имеющих риск острого клеточного отторжения (отторжения трансплантата). Сывороточные уровни циркулирующих миРНК, в частности miR-10a, miR-31, miR-92a и miR-155, показали дифференциальную сывороточную экспрессию, которая соответствовала тканевой экспрессии. Эти четыре миРНК в значительной степени позволили отличить пациентов с отторжением от пациентов без отторжения [36]. Поскольку в настоящее время риск отторжения трансплантата оценивается на нескольких плановых визитах с помощью инвазивной эндомиокардиальной биопсии, малоинвазивный мониторинг миРНК может принести значительную пользу в будущем [36, 37].
Важно отметить, что некоторые исследования пока не рассматривают миРНК в качестве диагностического или патофизиологического биомаркера СН. В качестве примера можно привести систематический обзор 2020 г., в котором был сделан вывод о том, что в настоящее время определение уровней миРНК в качестве диагностического параметра не имеет достаточно оснований для использования в клинических условиях и необходимы дальнейшие исследования по этому вопросу [38].
Эффективность миРНК в дифференциации фенотипов СН и связь с ремоделированием миокарда
Профиль циркулирующих миРНК при разных фенотипах СН
Оценка профиля циркулирующих миРНК может оказаться полезным диагностическим инструментом в дифференциации между СНнФВ и СНсФВ. Первыми исследователями профилей циркулирующих миРНК при различных подтипах СН стали K.L. Ellis et al. [39], которые сообщили о наборе дифференциально экспрессируемых миРНК среди пациентов с одышкой, включающей 16 лиц с СНнФВ и 16 — с СНсФВ с высокой концентрацией NT-proBNP в плазме [39]. Однако этот предварительный набор миРНК не удалось подтвердить во второй когорте. Авторы предположили, что это расхождение может отражать различия в критериях набора когорт и малый размер выборки. В 2015 г. две группы исследователей, используя более крупные когорты пациентов с СН, одновременно опубликовали набор сигнатурных миРНК, позволяющих различать СНнФВ и СНсФВ. Обе группы обнаружили, что диагностическая эффективность может быть выше, если исследование содержания сигнатурных миРНК сочетать с оценкой уровня NT-proBNP/BNP [9, 10]. Так, C.J. Watson et al. [9] проанализировали пул плазменной миРНК у 270 пациентов (по 90 пациентов с СНсФВ, СНнФВ и с факторами риска развития СН). В этом исследовании было показано, что пять миРНК снижены при СН (miR-30c, miR-146a, miR-221, miR-328 и miR-375), причем miR-375 была снижена только при СНнФВ. Именно поэтому эти миРНК стали рассматривать в качестве потенциально полезных инструментов для дифференциации СНсФВ от СНнФВ [9]. В то же время L.L. Wong et al. [10] выделили группу из восьми циркулирующих миРНК, оценка содержания которых в сочетании с определением уровня NT-proBNP обладала высокой дискриминационной способностью при выявлении неострой СН и классификации различных подтипов СН. В 2018 г. F. Chen et al. [40] сообщили о выявлении двух высокорегулярных миРНК — miR-3135b и miR-3908 — при СНсФВ и подчеркнули их потенциал в качестве маркеров, позволяющих отличить СНнФВ от СНсФВ. Однако диагностическая эффективность этих двух миРНК не изучалась. В последующем L. Wong et al. [30] в исследовании SHOP сравнили профили циркулирующих миРНК у лиц группы контроля и пациентов с СНсФВ или СНнФВ. Они выделили группу циркулирующих миРНК, изучение концентрации которых позволяет отличить пациентов с СН от пациентов без СН, а также пациентов с СНсФВ от пациентов с СНнФВ. Анализ экспрессии циркулирующих миРНК в исследовании L.R. Paim et al. [41] показал, что из 754 экспрессируемых миРНК 188 были обнаружены у всех пациентов с СН. При этом 13 из них были дифференцированно представлены у лиц с СНсФВ по сравнению с СНнФВ: экспрессия miR-181c-5p и miR-548a-3p была повышена, тогда как экспрессия miR-21-5p, miR-20a-5p, miR-130a-3p, miR-103a-3p, miR-423-5p, miR-19b-3p, miR-301-3p, let-7d-5p, miR-335-5p, miR-128a-3p и miR-25-3p — снижена при СНсФВ по сравнению с СНнФВ.
Обобщая результаты всех этих исследований, необходимо отметить, что анализ профилирования миРНК, особенно в сочетании с NT-proBNP, может выступать в качестве потенциально полезного инструмента для дифференциации СНсФВ от СНнФВ.
Связь миРНК с ремоделированием миокарда
Гипертрофия кардиомиоцитов и интерстициальный фиброз — ключевые компоненты ремоделирования миокарда как при СНсФВ, так и при СНнФВ. В исследовании L.R. Paim et al. [41], помимо анализа экспрессии миРНК при различных формах СН, изучали ее связь с процессами ремоделирования миокарда, что позволило глубже понять механизмы структурных изменений сердца при этих состояниях.
Так, различие экспрессии миРНК при разных фенотипах СН коррелировало с основными характеристиками сердца, выявленными как при эхокардиографии, так и при магнитно-резонансной томографии. Примечательно, что внеклеточный объем миокарда (ВОМ), известный неинвазивный маркер разрастания внеклеточного матрикса и диффузного интерстициального фиброза [42, 43], значительно коррелировал с четырьмя миРНК (положительно с miR-335-5p, miR-20a-5p, miR-181c-5p и отрицательно с miR-128a-3p) и был одинаково повышен в обеих группах СН по сравнению с группой контроля. Наблюдались увеличение экспрессии miR-181c-5p у пациентов с СНсФВ по сравнению с СНнФВ и обратная корреляция между уровнями этой миРНК и ВОМ у пациентов с СНнФВ. В этой связи необходимо отметить, что, по данным S. Das et al. [44], miR-181a обеспечивает защитный ответ миокарда на окислительный стресс, в то время как miR-181c, напротив, оказывает пагубное влияние. Эти данные свидетельствуют о том, что члены одного и того же семейства миРНК могут неодинаково влиять на сердечно-сосудистую систему. Более того, S. Wang et al. [45] показали, что сверхэкспрессия miR-181c-5p способствует повреждению и апоптозу кардиомиоцитов при гипоксии/реоксигенации, что указывает на возможность использования повышенного уровня этой миРНК в качестве биомаркера для оценки риска при кардиологических заболеваниях.
Экспрессия miR-128a-3p у пациентов с СНсФВ была значительно выше по сравнению с пациентами с СНнФВ [41]. Повышение уровня этой миРНК может оказывать влияние на размер кардиомиоцитов, фиброз миокарда и снижение систолической функции левого желудочка [46], поскольку miR-128 стимулирует апоптоз кардиомиоцитов при ишемии и реперфузионном повреждении, что подтверждено как в клинических исследованиях, так и в экспериментах на животных моделях СН [46]. Кроме того, существуют данные о важной роли miR-128 в повреждении миокарда, вызванном АГ, что может объяснять положительную связь между ее экспрессией и увеличением ВОМ у пациентов с СНсФВ, у которых АГ часто является сопутствующим заболеванием, связанным с ремоделированием и фиброзом миокарда [47]. Модуляция miR-128 также ассоциируется с пролиферацией кардиомиоцитов и функцией гладкомышечных клеток сосудов [48]. Интересно, что экспрессия miR-128 снижена в поврежденных сосудах, тогда как микрососудистая дисфункция при СНсФВ является одним из ключевых патофизиологических механизмов и ассоциируется с неблагоприятными исходами [49, 50]. Положительная связь между ВОМ и уровнем miR-128a-3p у пациентов с СНсФВ указывает на значительную роль этого пути в прогрессировании ремоделирования миокарда при данном фенотипе СН.
Экспрессия miR-335-5p была снижена у пациентов с СНсФВ [41]. Эта миРНК демонстрировала обратную корреляцию с массой левого желудочка в группе СНнФВ и прямую корреляцию с ВОМ в группе СНсФВ. По некоторым данным, miR-335-5p участвует в дифференцировке кардиомиоцитов, активируя сигнальные пути Wnt и трансформирующего фактора роста (TGF-β) посредством повышения экспрессии GATA4 и NKX2-5, а также маркеров дифференцировки мезодермы, прогениторных клеток сердца [51]. Интересные результаты были получены и в другом исследовании: на культуре клеток было показано, что сверхэкспрессия miR-335-5p ослабляла клеточный рост, усиливала апоптоз клеток, обработанных 25 нмоль глюкозы, и снижала экспрессию гена SLC2A4 (транспортера глюкозы 4) [52], что подтверждает связь этой миРНК с ремоделированием миокарда.
Время жизни внутриклеточной воды (τic), являющееся маркером размера и диаметра кардиомиоцитов [53], было значительно увеличено у пациентов с СНсФВ [41]. Несмотря на повышенный индекс массы левого желудочка у пациентов с СНнФВ, снижение τic указывало на меньший диаметр кардиомиоцитов, что свидетельствовало о более эксцентричном глобальном ремоделировании и большем индексе конечного диастолического объема, характерных для этого фенотипа по сравнению с СНсФВ. Кроме того, у пациентов с СНсФВ наблюдалось снижение экспрессии miR-423-5p по сравнению с СНнФВ, что обратно коррелировало с τic и NT-proBNP, указывая на связь между пониженной экспрессией этой миРНК и растяжением кардиомиоцитов [41].
В своей работе P. Kanagala et al. [54] предположили, что, хотя воспалительные, фиброзные и почечные нарушения были сопоставимы при обоих фенотипах СН, маркеры растяжения и повреждения кардиомиоцитов были более выражены при СНнФВ. В метаанализе, включавшем 967 пациентов с СН, было показано, что снижение уровня экспрессии miR-423-5p ассоциировано с повышенной смертностью, что делает эту миРНК потенциальным прогностическим биомаркером [55]. Более того, H. Park et al. [56] выявили снижение уровня miR-423-5p у пациентов с ФП, а H. Luo et al. [57] показали, что сверхэкспрессия этой миРНК обладает кардиопротективным эффектом при ишемии / реперфузионном повреждении.
Таким образом, циркулирующие миРНК, являясь высокоэффективными диагностическими и прогностическими биомаркерами СН, могут не только способствовать дифференциации ее фенотипов, но и быть связаны с ремоделированием миокарда, что открывает перспективы для их применения в клинической практике.
Заключение
Изучение миРНК как потенциальных биомаркеров — относительно новая область исследований, однако уже демонстрирует значительный потенциал для диагностики и прогноза заболеваний, включая СН. МиРНК отличаются высокой стабильностью, чувствительностью и минимальной инвазивностью при получении образцов. В то же время существуют ограничения, связанные с неполным пониманием их биологических функций, отсутствием стандартизации методов анализа и влиянием сопутствующих факторов. Представленные данные подтверждают высокую информативность концентрации циркулирующих миРНК в диагностике и прогнозировании СН, а также в дифференциации ее фенотипов. Кроме того, установлена связь миРНК с процессами ремоделирования миокарда, что может способствовать более точной стратификации риска и индивидуализации терапии. Для повышения диагностической точности целесообразно использовать комбинации миРНК с традиционными биомаркерами. Дальнейшие исследования необходимы для оптимизации их клинического применения.
Сведения об авторах:
Айтбаев Кубаныч Авенович — д.м.н., профессор, консультант отдела реанимации, терапии и диагностики многопрофильного медицинского центра «Doc university clinic» учреждения «Салымбеков Университет»; 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, д. 144; ORCID iD 0000-0003-4973-039X
Муркамилов Илхом Торобекович — д.м.н., член-корр. РАЕ, директор по клинической работе и стратегическому развитию многопрофильного медицинского центра «Doc university clinic» учреждения «Салымбеков Университет»; 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, д. 144; доцент кафедры факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева; 720020, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д. 92; ORCID iD 0000-0001-8513-9279
Хакимов Шавкат Шукурбекович — заведующий отделом реанимации, терапии и диагностики многопрофильного медицинского центра «Doc university clinic» учреждения «Салымбеков Университет»; 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, д. 144; ORCID iD 0009-0004-0437-0188
Фомин Виктор Викторович — д.м.н., профессор, академик РАН, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 125993, Россия, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1; ORCID iD 0000-0002-2682-4417
Юсупов Фуркат Абдулахатович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и психиатрии медицинского факультета ОшГУ; 723500, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина, д. 331; ORCID iD 0000-0003-0632-6653
Юсупов Абдулхоким Фуркатович — соискатель, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и психиатрии медицинского факультета ОшГУ; 723500, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина, д. 331; ORCID iD 0000-0002-6449-8229
Юсупова Турсуной Фуркатовна — клинический ординатор кафедры неврологии, нейрохирургии и психиатрии медицинского факультета ОшГУ; 723500, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина, д. 331; ORCID0000-0002-8502-2203
Контактная информация: Муркамилов Илхом Торобекович, e-mail: murkamilov.i@mail.ru
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах и методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 30.06.2025.
Поступила после рецензирования 23.07.2025.
Принята в печать 15.08.2025.
About the authors:
Kubanych A. Aitbaev — Dr. Sc. (Med.), Professor, Chief Research Consultant of the «DOC University Clinic» Multidisciplinary Medical Center, Salymbekov University; 144, Bokonbayev str., Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic; ORCID iD 0000-0003-4973-039X
Ilkhom T. Murkamilov — Dr. Sc. (Med.), corresponding member of the RANH, Director of Clinical Work and Strategic Development of the «DOC University Clinic» Multidisciplinary Medical Center, Salymbekov University; 144, Bokonbayev str., Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic; Associate Professor of the Department of Faculty Therapy, I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy; 92, Akhunbayev str., Bishkek, 720020, Kyrgyz Republic; ORCID iD 0000-0001-8513-9279
Shavkat Sh. Khakimov — Head of the Department of Intensive Care, Therapy and Diagnostics, «DOC University Clinic» Multidisciplinary Medical Center, Salymbekov University; 144, Bokonbayev str., Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic; ORCID iD 0009-0004-0437-0188
Viktor V. Fomin — Dr. Sc. (Med.), Academician of the RAS, Professor, Rector of the Russian Medical Academy of
Continuous Professional Education; 2/1, Barrikadnaya str., Moscow, 125993, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-2682-4417
Furkat A. Yusupov— Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry of the Faculty of Medicine, Osh State University; 331, Lenin str., Osh, 723500, Kyrgyz Republic; ORCID iD 0000-0003-0632-6653
Abdulkhokim F. Yusupov — Assistant Professor of the Department of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry of the Faculty of Medicine, Osh State University; 331, Lenin str., Osh, 723500, Kyrgyz Republic; ORCID iD 0000-0001-7621-1128
Tursunoy F. Yusupova — Clinical Resident of the Department of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry of the Faculty of Medicine, Osh State University; 331, Lenin str., Osh, 723500, Kyrgyz Republic; ORCID0000-0002-8502-2203.
Contact information: Ilkhom T. Murkamilov, e-mail: murkamilov.i@mail.ru
Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.
There is no conflict of interest.
Received 30.06.2025.
Revised 23.07.2025.
Accepted 15.08.2025.
Информация с rmj.ru